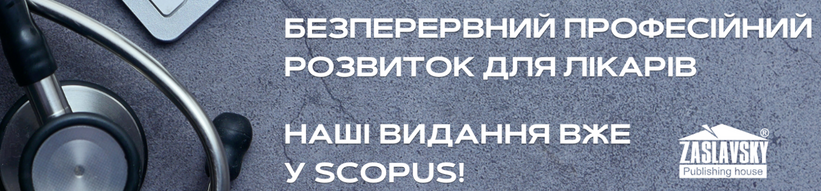Журнал «Вестник Ассоциации психиатров Украины» (02) 2013
Вернуться к номеру
История психиатрических репрессий
Авторы: Глузман С.Ф., президент АПУ
Рубрики: Психиатрия
Разделы: Медицинские форумы
Версия для печати
Другі Львівські психіатричні зустрічі «Етика і право в психіатрії. Історичний погляд. Що далі?»
Год тому назад мы с доктором Закалем предложили именно эту тему для следующей конференции во Львове. Предложили самим себе в первую очередь. И лишь затем, для утверждения, — всем членам правления Ассоциации психиатров Украины. Весь этот год в процессе подготовки необычной конференции, необычной — для психиатров в постсоветских странах, я вынужденно все глубже и глубже возвращался в прошлое. В свое собственное прошлое. Однажды я остро ощутил себя кладбищенским сторожем. Да, именно так — сторожем на кладбище, где вперемежку в одинаковых могилах лежат палачи и их жертвы. И тогда я понял, что основная цель нашей будущей конференции во Львове — не поднять мертвых, а предупредить живых, сделать все возможное, чтобы это кладбище отечественной психиатрии, украинской в том числе, не расширялось за счет новых могил.
У этого кладбища есть еще один сторож. Голландец по происхождению, христианин по вероисповеданию, правозащитник по роду деятельности. Он, господин Роберт ван Ворен, сегодня — практикующий профессор политологии, также принимает участие в нашей конференции. Его свидетельства о грехах советской психиатрии — основные. Точные, яркие и всегда аргументированные. Его доклад — завтра.
Разумеется, история злоупотреблений психиатрией началась не в СССР. История Древней Греции сохранила следующее свидетельство. На небольшом острове под названием Абдера жил некий Демокрит. Непрактичный, странный с точки зрения остальных островитян, он смущал молодежь своими далекими от практической жизни разглагольствованиями. И однажды жители Абдеры, усомнившиеся в душевном здоровье философа, пригласили для его освидетельствования знаменитого лекаря, легендарного Гиппократа. После длительной беседы с Демокритом лекарь вышел к жителям Абдеры и сказал: он, Гиппократ, получил огромное удовольствие от беседы с мудрецом и нисколько не сомневается в ясности его ума и трезвости мысли. И он, лекарь, в связи с этим советует островитянам задуматься о собственном душевном здоровье. Демокриту повезло — его экспертом был честный врач.
Еще один пример печального неуважения к проблемам психиатрии, на этот раз с серьезными необратимыми последствиями, — практика средневековой инквизиции. Как нам понятно сегодня, значительная часть несчастных женщин, погибших на кострах, — наши, психиатров, пациентки, жертвы самооговора в результате психических расстройств. В частности, страдавшие глубокими депрессивными расстройствами. Увы, это мы понимаем сегодня. Тогда, в Средневековье, был совершенно иной взгляд на психические проблемы.
Россия, тогда включавшая в себя и Украину, представляет для нас, естественно, особый интерес. Поскольку ментальность народа, его отношение к основополагающим принципам общественной жизни и компетенции государственной власти складывается веками. Наиболее яркий случай злоупотребления психиатрией в царской России — история Чаадаева. Добровольно ушедший с государственной службы офицер с карьерными перспективами, высокообразованный аристократ был высочайшим повелением императора признан душевнобольным. Ему простили бы многое: и критику внутренней и внешней политики России, и восхваление европейского опыта жизни… Но ему не могли простить того, что он, православный по рождению и воспитанию, открыто предпочел католичество. Такое мог совершить в России только душевнобольной.
Другая история — также из времен царской России. Регулярная российская армия жестоко давила восставшую Польшу. Обыкновенный унтерофицер, кстати, этнический украинец, категорически отказался участвовать в расстреле мирных граждан на улице Варшавы. Был арестован, признан душевнобольным. Так было удобнее для армейского начальства. Да и для царского престола.
Разумеется, в царской России были и другие примеры. Знаменитые психиатры начала ХХ века прятали среди психически больных пациентов политически ангажированных террористов и грабителей банков. Победившие вскоре большевики запомнили своих спасителей. В 20е и 30е годы многие из этих добрых людей погибли в застенках советской политической полиции.
Деспотический режим, установленный Сталиным, к услугам психиатрии как методу расправы не прибегал. Более того, известны многочисленные случаи спасения людей, ожидавших неизбежного ареста «органами» и успевших симулировать психическое расстройство и добиться госпитализации в психиатрическую больницу. Карательные органы спокойно арестовывали другого невиновного — соседа по дому или сослуживца. Они в любом случае уверенно выполняли свой план поимки «иностранных шпионов», «диверсантов», «вредителей» и прочих «врагов народа». Люди, спрятавшиеся в психиатрических больницах и симулировавшие психические расстройства, спасали свою жизнь, проводя в тяжелейших условиях советского психиатрического стационара долгие годы.
Впрочем, одна непонятная мне сегодня страничка из времен сталинского террора может со временем проявиться какимито неожиданными фактами. В период апогея горбачевских вольностей, когда многие советские номенклатурные работники всерьез опасались за свое будущее, я стал участником такого события. Директор института судебномедицинских экспертиз в Москве Татьяна Дмитриева, повидимому, желая ярко продемонстрировать свою приверженность демократическим переменам в СССР, неожиданно привела американского психиатра профессора Лорена Роса и меня в институтский подвал, где показала суперзасекреченный архив. На полках стояли сотни досье людей, в сталинские времена проходивших судебнопсихиатрическую экспертизу в этом институте, и все они были без имен, фамилий, какихлибо биографических данных о подэкспертных. Только номера… Кто они? Какова дальнейшая судьба этих людей? Надеюсь, когданибудь российское правительство откроет и этот архив…
Смерть Сталина и последующие политические изменения в Кремле позволили сотням тысяч невинно осужденных вернуться к нормальной жизни. Посмертно были реабилитированы и те, кто не дожил до смерти тирана. Менялась страна. Действительно менялась. Но политические тюрьмы и лагеря продолжали существовать. Малочисленные, со сравнительно небольшим количеством узников. В основном там продолжали отбывать свое 25летнее наказание участники гражданского сопротивления из Западной Украины и балтийских республик, так называемые «бендеровцы» и «лесные братья», несколько членов запрещенной в СССР армянской партии «Дашнакцутюн» и подобные им «отщепенцы». Естественно, об этих лагерях и тюрьмах никогда не сообщали в советской прессе, эти объекты относились к зоне компетенции КГБ. Так вот, однажды новый лидер страны Никита Сергеевич Хрущев, очень любивший шумные зарубежные поездки, гдето на Западе давал прессконференцию. Поступил и такой неожиданный вопрос: «Нам известно, что в вашей стране попрежнему есть политзаключенные. Почему вы это скрываете?» Разъяренный Хрущев резко ответил: «У нас нет никаких политзаключенных. Недовольство советской властью могут проявлять только психически больные люди, сумасшедшие!» Позднее многие зарубежные эксперты, изучавшие феномен злоупотреблений психиатрией в политических целях в СССР, определили именно этот момент как санкцию верховной власти страны на внесудебные расправы с инакомыслящими. Так ли это?.. Не знаю. Сомневаюсь. Точные ответы дадут историки в будущем.
Главное в ином: и во времена Хрущева, и во времена Брежнева психиатрия в СССР стала методом наказания инакомыслящих, т.е. советских граждан, проявляющих несогласие с идеологическими установками или действиями режима. Заказ власти был очевиден. Сегодня мы знаем несколько документов ЦК КПСС и руководства КГБ, свидетельствующих об этом. Логика у власти была следующей.
Хрущев своей критикой Сталина и раскрытием части исторической правды открыл ящик Пандоры. Тотальный страх достаточно быстро слабел. Фактически было узаконено сомнение как общественный феномен. В страну поступала прежде недоступная информация об окружающем мире. Воспитанные на разоблачении грехов Сталина молодые люди (чаще — студенты) задумывались о сути учения марксизмаленинизма. Возникали так называемые «кружки», прообразы дискуссионных клубов. В национальных окраинах залитое кровью гражданское сопротивление сменялось ненасильственными инициативами молодежи. И т.д. и т.п. Противопоставить всему этому прежнюю жестокость власть уже не могла. Думали и о себе, помнили о судьбах своих предшественников, ставших жертвами собственной жестокости. Да и внешние обстоятельства возвращаться к сталинской тирании не позволяли. Уголовный кодекс позволял наказывать несогласных, отклоняющихся… но санкция была сравнительно мягкой — до семи лет лишения свободы. До семи лет достаточно терпимых условий жизни (в сравнении со сталинским ГУЛАГом, разумеется!) и возвращения в общество, к семье, к солидарным, сочувствующим друзьям, сослуживцам и совсем незнакомым людям. Советские граждане все чаще и чаще вслух высказывали различного рода сомнения, слушали зарубежные радиостанции, читали самиздат и «тамиздат». Психиатрия оказалась очень удобным и эффективным инструментом устрашения. Посудите сами: нет необходимости в подборе судебных доказательств, отсутствие самого обвиняемого в зале суда (признан невменяемым!) и, наконец, бессрочная изоляция в психиатрическом учреждении.
В начале 70х годов прошлого века психиатрические репрессии участились. Главным местом навешивания психиатрических ярлыков было специальное Четвертое отделение института судебнопсихиатрических экспертиз им. Сербского в Москве. Это отделение фактически было территорией КГБ. Диагнозы, поставленные работающими там психиатрами, подкреплялись самыми высокими авторитетами советской психиатрии, чья компетентность не вызывала сомнений. Но горькая правда состоит в другом: психиатрические диагнозы здоровым людям «назначались» не только в Москве. При необходимости — и в Вильнюсе, Риге, Киеве. И во Львове. Увы, таковы факты. Грешила система, вся.
О системе. Советская психиатрия как научная концепция резко отличалась от теории и практики в других странах. В частности, любимое детище академика Снежневского — вялотекущая шизофрения — не принималась в качестве диагностической единицы нигде, кроме СССР и его сателлитов. Кстати, не принималась и украинской школой психиатрии профессора Полищука. Задавили, заставили. Снежневский и Ко были сильнее. Уверенные в бессмертии тоталитарного СССР советские психиатры, особенно в Москве, не стеснялись на диссидентских случаях формировать «научные» статьи, защищать диссертации. Вся эта бумажная продукция была доступна в медицинских библиотеках. Вернувшись в Киев после десяти лет отсутствия в 1982 году, я был поражен, увидев всю эту «научную» литературу в открытом хранении в киевской медицинской библиотеке. А еще более я был поражен, читая всю эту смешную гнусность, с трудом уложенную в научную психиатрическую терминологию… Будь я министром здравоохранения, я бы предложил каждому молодому врачу, намеренному работать в психиатрии, прочитать несколько этих опусов, в качестве прививки, естественно.
Завтра здесь, в этой аудитории, голландский политолог Роберт ван Ворен расскажет вам о том страшном, ужасающем прошлом. О психиатрических репрессиях против здоровых инакомыслящих в СССР. К сожалению, я не смог привезти из Киева его книгу, переведенную нами на русский язык, — она еще в типографии. Там, в этой книге, — страшная правда о жестокости. Там — детально описанная ложь советских психиатрических начальников, в конце концов исключенных из Всемирной психиатрической ассоциации. И правда об условном, неполном возвращении советской психиатрии в ряды коллег. Та правда, которую тщательно скрывали даже в горбачевском СССР.
Первый законодательный акт в форме Указа президента СССР появился в самом конце существования советской империи. Это были странные времена. К примеру, журнал ЦК КПСС «Коммунист» тогда попросил меня написать специально для него статью о злоупотреблениях психиатрией в Советском Союзе и немедленно опубликовал ее. Депутат последнего созыва Верховного Совета СССР, молодой инженер из уральского города, был инициатором создания серьезного, детального Закона о психиатрической помощи в СССР. На мой вопрос, зачем ему, инженеру, это нужно, он ответил следующее: «Вся эта демократия вскоре закончится, ребята, которые придут к власти, начнут репрессии, и вам, доктор Глузман, и мне придется несладко. Так давайте хотя бы эту возможность этим ребятам перекроем, примем цивилизованный закон, исключающий возможность психиатрических репрессий!» Не успели, распался СССР.
В Украине нет КГБ и нет политзаключенных. Есть оппозиция, и есть власть. Избранная нами власть именно такая, как мы сами. Впрочем, такова же и оппозиция. В Украине нет злоупотреблений психиатрией в политических целях. Были попытки, наиболее яркая — попытка решить проблему парарелигиозной организации «Белое братство» с помощью психиатрических стационаров. Не удалось, сами украинские психиатры категорически отказались. Но у нас есть иное: эпидемическое распространение безнаказанных имущественных злоупотреблений в психиатрии. В этом участвуют и сами психиатры, и нотариусы, и судьи, и опекунские советы. Увы, большей частью это проблема качества судебной практики в Украине, а не самой психиатрии.
Но наше относительное благополучие обманчиво. Мы должны учиться на чужих ошибках, чтобы не совершать свои. Рядом с нами, в России, не так давно неприятную политическую и криминальную проблему власти страны попытались решить с помощью психиатрии. Я имею в виду дело полковника российской армии Буданова, изнасиловавшего и убившего чеченскую девушку. Ведущие российские психиатры пытались признать Буданова больным и тем самым вывести изпод уголовной ответственности. Не удалось — не позволила общественность, российская и мировая. Но в самый разгар скандала мне позвонила из Москвы известная журналистка Анна Политковская, позднее убитая киллером, и попросила здесь, в Украине, провести заочное исследование личности Буданова с точки зрения психиатрии… Понимаю, этим следует гордиться: обратилась к нам, в Ассоциацию психиатров Украины. Нам доверяла. Но есть ли у нас самих гарантия, что дело, подобное будановскому, не возникнет в нашей судебно-психиатрической системе? Я не уверен.